ксения лученко
ОКТЯБРЬ 2017
ОКТЯБРЬ 2017
Я научилась принимать важные для меня решения без оглядки на других
Инна Дыбенко провела три года у постели своей мамы, умирающей от БАС
Все это время ее поддерживали муж, сын и близкие люди, но заботу о маме она полностью взяла на себя, чтобы до конца прожить их сложные отношения. После смерти мамы Инна продолжает участвовать в жизни фонда «Живи сейчас» и общаться с членами семей пациентов с БАС, организует работу фонда на благотворительных ярмарках. Для нее опыт маминой болезни стал основой переосмысления себя, своих отношений с миром.
— Когда я была ребенком, мы с мамой жили вдвоем и у нас были очень близкие отношения. При этом я всегда знала, что она жесткий товарищ. Она мне всегда рассказывала, что мне должно нравиться, а что не нравиться. И когда я вышла замуж и начала жить своей жизнью, у нас были конфликты, которые тянулись всю жизнь. Прикол, если уместно это слово, состоял в том, что как раз перед тем, как ей поставили диагноз БАС, я приняла решение сократить общение с ней до минимума. К тому моменту я поняла, что она разрушает мою жизнь, я не могу пробиться сквозь ее стену.
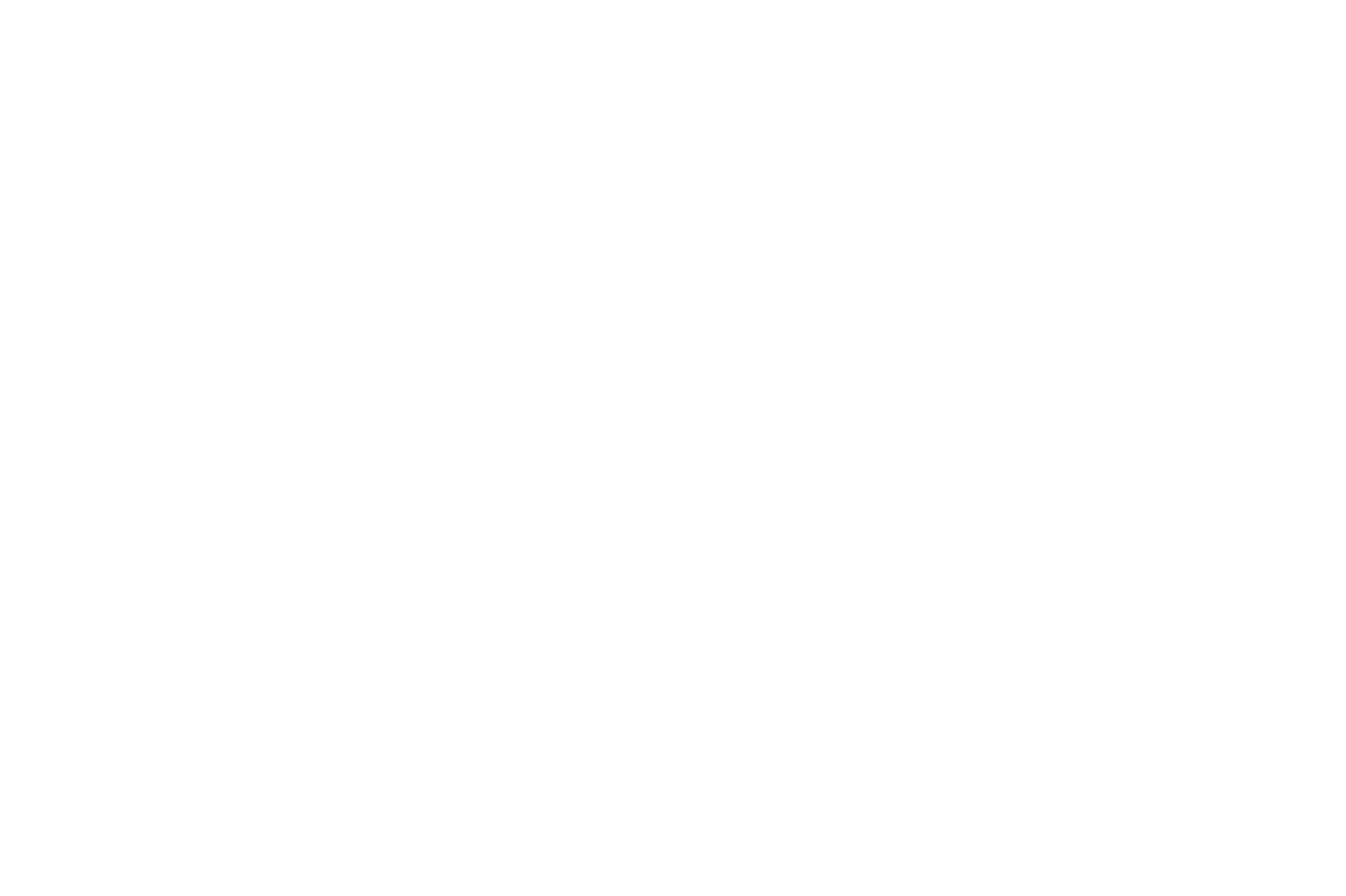
То есть, бытовая, финансовая поддержка – это я все собиралась оставить, как было, но свести к минимуму эмоциональный контакт. Мне тогда было 45 лет, а ей 72. Но тут у нее случился инсульт, потом ее надо было реабилитировать и нам сказали, что лучше бы провериться в Центре неврологии. После электронейромиографии врач сказал мне, что у мамы БАС. Я, конечно, не знала, что это такое, начала спрашивать, что делать дальше. А врач говорит: «Это не лечится. И маме вы лучше об этом не говорите. Мы так советуем». Я вышла в коридор, там сидит мама, я была совершенно оглушена, что-то пробормотала. Весь первый год я рыдала без остановки. К доктору не могла зайти, потому что как только надо было сказать слово «БАС», начинала плакать.
Сейчас, когда уже два года прошло после ее смерти, я могу сказать, что ее болезнь полностью перевернула и мою жизнь тоже. Причем в хорошем смысле слова.
— Эта болезнь не оставляет никаких шансов. Есть редкие случаи, когда с БАС живут дольше десяти лет, но нам сразу сказали — три года. Так и получилось. С раком или другими заболеваниями есть хотя бы теоретическая возможность выздороветь, что-то сделать, а здесь нет. И название фонда «Живи сейчас» — это то, к чему люди вообще стремятся. Все эзотерические практики, психологическая поддержка направлены на то, чтобы люди научились жить в настоящем. А БАС к этому просто вынуждает, потому что никаких вариантов: завтра тебе будет объективно хуже, чем сегодня. Ты вынужден сегодня жить на полную катушку или, по крайней мере, с полным осознанием того, что ты делаешь.
Мне было очень сложно. У меня даже характер поменялся. Обычно если я понимаю, осознаю какую-то ситуацию, то не могу отрезать по куску, рублю все сразу. А тут это растянулось на три года. Я приняла решение, что буду сама за ней ухаживать. Я могла взять сиделку, но мне это даже в голову не пришло. Весь мой жизненный опыт говорил, что если я сбегу, мне сразу прилетит обратка. Если я смалодушничаю, скажу: «Мне с мамой сложно, давайте я буду просто деньги давать», значит, мне тоже шарахнет что-то по голове, мы с ней все равно окажемся на соседних кроватях и будем вынуждены должным образом пройти все эти взаимоотношения.
Мне было очень сложно. У меня даже характер поменялся. Обычно если я понимаю, осознаю какую-то ситуацию, то не могу отрезать по куску, рублю все сразу. А тут это растянулось на три года. Я приняла решение, что буду сама за ней ухаживать. Я могла взять сиделку, но мне это даже в голову не пришло. Весь мой жизненный опыт говорил, что если я сбегу, мне сразу прилетит обратка. Если я смалодушничаю, скажу: «Мне с мамой сложно, давайте я буду просто деньги давать», значит, мне тоже шарахнет что-то по голове, мы с ней все равно окажемся на соседних кроватях и будем вынуждены должным образом пройти все эти взаимоотношения.
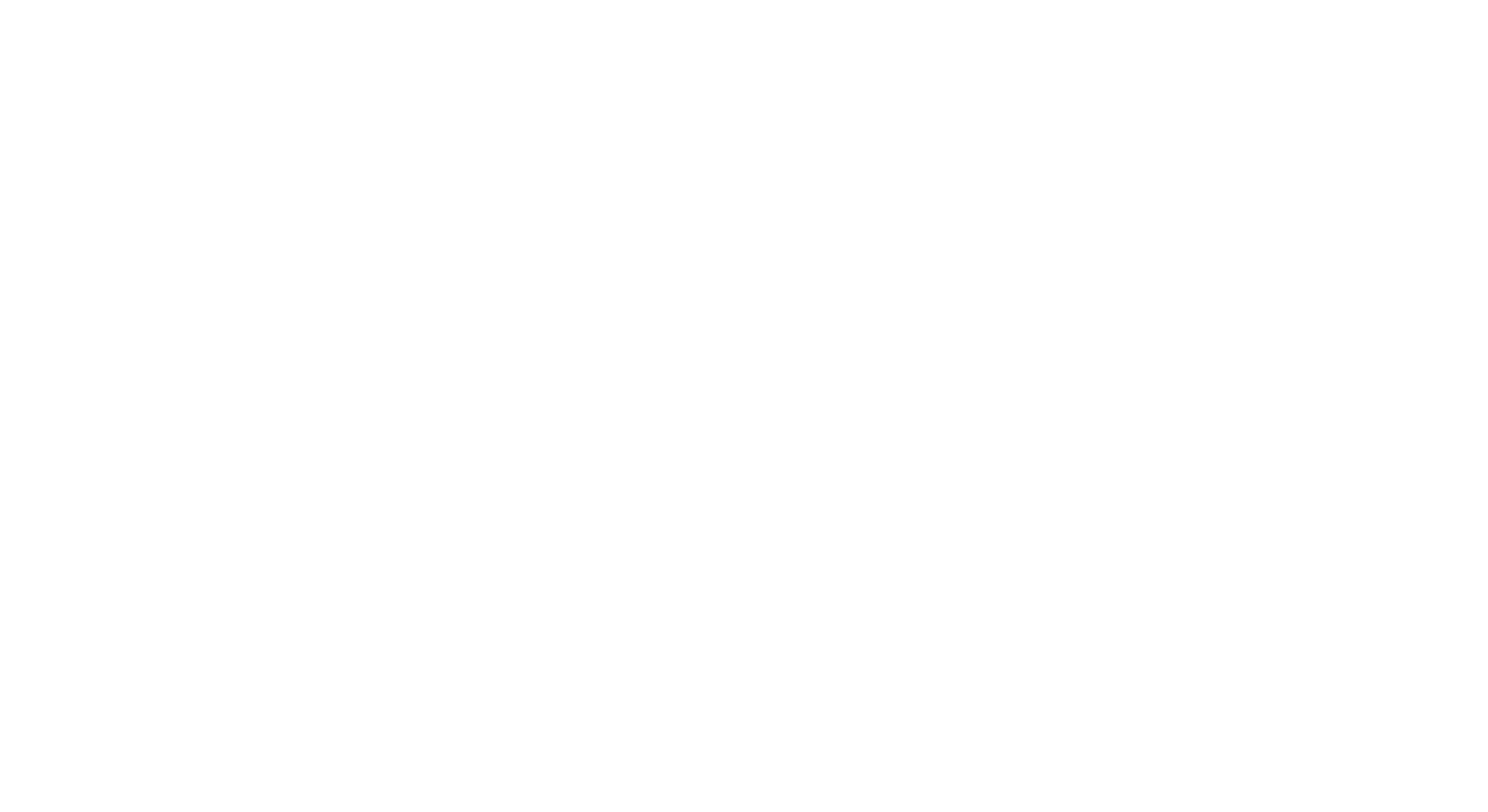
— Через полгода после того, как я узнала о маминой болезни, я обнаружила службу помощи людям с БАС в Марфо-Мариинской обители (сейчас это совместный проект фонда «Живи сейчас» и православной службы помощи «Милосердие» — прим.), где мне объяснили, почему надо, чтобы человек знал свой диагноз. Я очень долго готовилась к этому разговору, но она, конечно, мне не поверила. У нее уже были и другие старческие изменения, забывчивость, поэтому каждые три дня мне приходилось отвечать на вопрос, почему она плохо себя чувствует и что такое БАС. Первое, что у нее пропало, — речь. Она писала, держа карандаш в кулаке. И даже за три дня до смерти, когда она уже некоторое время была в абсолютно горизонтальном положении, она написала мне: «Что-то я себя плохо чувствую, надо бы сходить к врачу».
Сейчас я могу сказать, что эта болезнь дала маме возможность уйти в некотором спокойствии. То, как она себя вела и что говорила, когда была здорова, было, скажем мягко, некорректно. И если бы она продолжала в том же духе, это ее бы разрушило. А тут она просто забыла, кого она не любит, мне не приходилось больше выслушивать потоки негатива в отношении родных людей. Мы с ней жили в соседних домах, и те годы, когда она болела, я была у нее постоянно, уходя к себе на два часа каждый день восстановиться.
Я приняла решение, что мы не будем пользоваться аппаратом вентиляции легких. Потому что во-первых, это очень больно. Когда на человека надета маска, ему действительно намного легче дышать. Но маску нельзя держать круглосуточно, ее надо регулярно снимать. И здесь возникает психологический момент: как только ты снимаешь маску, человеку становится хуже. А если он мнительный, это только усугубляет риск, что у него будет приступ удушья. Получается замкнутый круг.
Во-вторых, я четко знаю, что я сама, например, не хочу, чтобы меня при таком диагнозе реанимировали, чтобы я потом была прикована к кровати и умерла в реанимации. Мама тоже терпеть не могла больницы. Это было очень сложное решение — не набрать «ноль три», когда человек синеет. Но что такое «ноль три» при этом заболевании? Да, они человека увезут, но они сразу сделают ему трахеоcтомию (специальное отверстие в гортани для подключения аппарата искусственной вентиляции легких — прим.) . Это моментально обрушивает состояние больного: даже если он был еще сидячий и передвигающийся, он оказывается прикованным к кровати. Нам повезло, что у мамы было всего два-три таких приступа и помогал препарат, который надо было ей засунуть за щеку, чтобы он растворился, потому что глотать она уже не могла. Она еще и подозревала, что я хочу ее отравить. Это было вообще «чудесно». И я совершенно четко поняла, что если я ей буду снимать маску с лица, она умрет с осознанием того, что я ее убила. Очень много зависит от семьи, от осознанности самого больного и тех, кто за ним ухаживает. В нашем случае это была сложная семейная история про отношения и личный выбор каждого.
Сейчас я могу сказать, что эта болезнь дала маме возможность уйти в некотором спокойствии. То, как она себя вела и что говорила, когда была здорова, было, скажем мягко, некорректно. И если бы она продолжала в том же духе, это ее бы разрушило. А тут она просто забыла, кого она не любит, мне не приходилось больше выслушивать потоки негатива в отношении родных людей. Мы с ней жили в соседних домах, и те годы, когда она болела, я была у нее постоянно, уходя к себе на два часа каждый день восстановиться.
Я приняла решение, что мы не будем пользоваться аппаратом вентиляции легких. Потому что во-первых, это очень больно. Когда на человека надета маска, ему действительно намного легче дышать. Но маску нельзя держать круглосуточно, ее надо регулярно снимать. И здесь возникает психологический момент: как только ты снимаешь маску, человеку становится хуже. А если он мнительный, это только усугубляет риск, что у него будет приступ удушья. Получается замкнутый круг.
Во-вторых, я четко знаю, что я сама, например, не хочу, чтобы меня при таком диагнозе реанимировали, чтобы я потом была прикована к кровати и умерла в реанимации. Мама тоже терпеть не могла больницы. Это было очень сложное решение — не набрать «ноль три», когда человек синеет. Но что такое «ноль три» при этом заболевании? Да, они человека увезут, но они сразу сделают ему трахеоcтомию (специальное отверстие в гортани для подключения аппарата искусственной вентиляции легких — прим.) . Это моментально обрушивает состояние больного: даже если он был еще сидячий и передвигающийся, он оказывается прикованным к кровати. Нам повезло, что у мамы было всего два-три таких приступа и помогал препарат, который надо было ей засунуть за щеку, чтобы он растворился, потому что глотать она уже не могла. Она еще и подозревала, что я хочу ее отравить. Это было вообще «чудесно». И я совершенно четко поняла, что если я ей буду снимать маску с лица, она умрет с осознанием того, что я ее убила. Очень много зависит от семьи, от осознанности самого больного и тех, кто за ним ухаживает. В нашем случае это была сложная семейная история про отношения и личный выбор каждого.
Я тогда оценила группы поддержки, которые проводит фонд. Раз в месяц приходишь, общаешься с другими родственниками, получаешь информацию, которой нигде больше в нашей стране нет.
— Очень важно осознавать, что кто-то через это уже прошел до тебя. Кроме того, они учат разбивать ситуацию на задачи. Когда все на тебя вдруг обрушивается, ты думаешь, что под этой плитой просто сам умрешь. А тут тебя подхватывают и пошагово объясняют: «Гастростома — то-то и тогда-то, кровать вот такая, группа инвалидности — это вот это».
Получение группы инвалидности — это был ужас. У нас в комиссии при поликлинике сидела какая-то прямо фашистка. Я принесла все бумаги на маму и на то, что нам нужна специальная кровать. Она вышла и поверх очков стала орать: «Так, я не поняла, кто тут? Что вы тут понаписали? Вы вообще понимаете, что вы тут понаписали? Какая кровать? Как вы вообще себе это все представляете?». А я уже и так почти плакала, но взяла себя в руки и говорю: «Вы знаете, я это пока себе никак не представляю. Но если хотите, когда мама умрет, я к вам приду и расскажу, как это было». И потом кто-то из сотрудников фонда поехал вместо меня в поликлинику за этой бумажкой, я просто не могла больше.
Когда ты находишься в стрессе, растянутом на три года, приходится признавать в себе какие-то черты и особенности. У меня был синдром хорошей девочки. Я могла внутри быть с чем-то несогласной, кипеть, у меня могло все болеть, но внешне я соглашалась и принимала, чтобы кого-то не обидеть, приспособиться. Я всегда должна была соответствовать чьим-то представлениям о себе. А в этот период я научилась принимать решения, которые важны для меня, без оглядки на других. У меня просто не осталось выбора. Например, я сократила общение до минимума. Поняла, что мне надо раз в полгода на две недели уехать на дачу, а это значит, что кто-то должен приехать и с ней посидеть, желательно кто-то из своих, потому что чужих она не любит. Раз в день два часа я должна обязательно просто полежать в наушниках и послушать то, что я люблю, вообще ничего не делая. Я совершенно перестала убирать у себя в квартире. Я приходила, выпивала чай, отодвигала чашку, приносила новую чашку, отодвигала. Если сын начинал высказывать недовольство, я говорила: «Мне неважно. Если тебя это раздражает, ты убираешь». Еще очень важно было попросить, сказать: «Слушайте, можно, вы приедете и просто побудете?». Оказывается, что когда ты четко просишь, формулируешь, что конкретно нужно, людям это в радость. Это был опыт постоянного преодоления себя.
Получение группы инвалидности — это был ужас. У нас в комиссии при поликлинике сидела какая-то прямо фашистка. Я принесла все бумаги на маму и на то, что нам нужна специальная кровать. Она вышла и поверх очков стала орать: «Так, я не поняла, кто тут? Что вы тут понаписали? Вы вообще понимаете, что вы тут понаписали? Какая кровать? Как вы вообще себе это все представляете?». А я уже и так почти плакала, но взяла себя в руки и говорю: «Вы знаете, я это пока себе никак не представляю. Но если хотите, когда мама умрет, я к вам приду и расскажу, как это было». И потом кто-то из сотрудников фонда поехал вместо меня в поликлинику за этой бумажкой, я просто не могла больше.
Когда ты находишься в стрессе, растянутом на три года, приходится признавать в себе какие-то черты и особенности. У меня был синдром хорошей девочки. Я могла внутри быть с чем-то несогласной, кипеть, у меня могло все болеть, но внешне я соглашалась и принимала, чтобы кого-то не обидеть, приспособиться. Я всегда должна была соответствовать чьим-то представлениям о себе. А в этот период я научилась принимать решения, которые важны для меня, без оглядки на других. У меня просто не осталось выбора. Например, я сократила общение до минимума. Поняла, что мне надо раз в полгода на две недели уехать на дачу, а это значит, что кто-то должен приехать и с ней посидеть, желательно кто-то из своих, потому что чужих она не любит. Раз в день два часа я должна обязательно просто полежать в наушниках и послушать то, что я люблю, вообще ничего не делая. Я совершенно перестала убирать у себя в квартире. Я приходила, выпивала чай, отодвигала чашку, приносила новую чашку, отодвигала. Если сын начинал высказывать недовольство, я говорила: «Мне неважно. Если тебя это раздражает, ты убираешь». Еще очень важно было попросить, сказать: «Слушайте, можно, вы приедете и просто побудете?». Оказывается, что когда ты четко просишь, формулируешь, что конкретно нужно, людям это в радость. Это был опыт постоянного преодоления себя.
В последние полгода с мамой что-то произошло. Она ушла совершенно просветленная. Поэтому я считаю, что она, видимо, отработала свою негативную историю, переродилась. Она умерла на даче в очень красивый солнечный день, было открыто окно. Я видела ее последний вздох.
Текст записала Ксения Лученко
Фото из семейного архива Инны Дыбенко
Фото из семейного архива Инны Дыбенко
